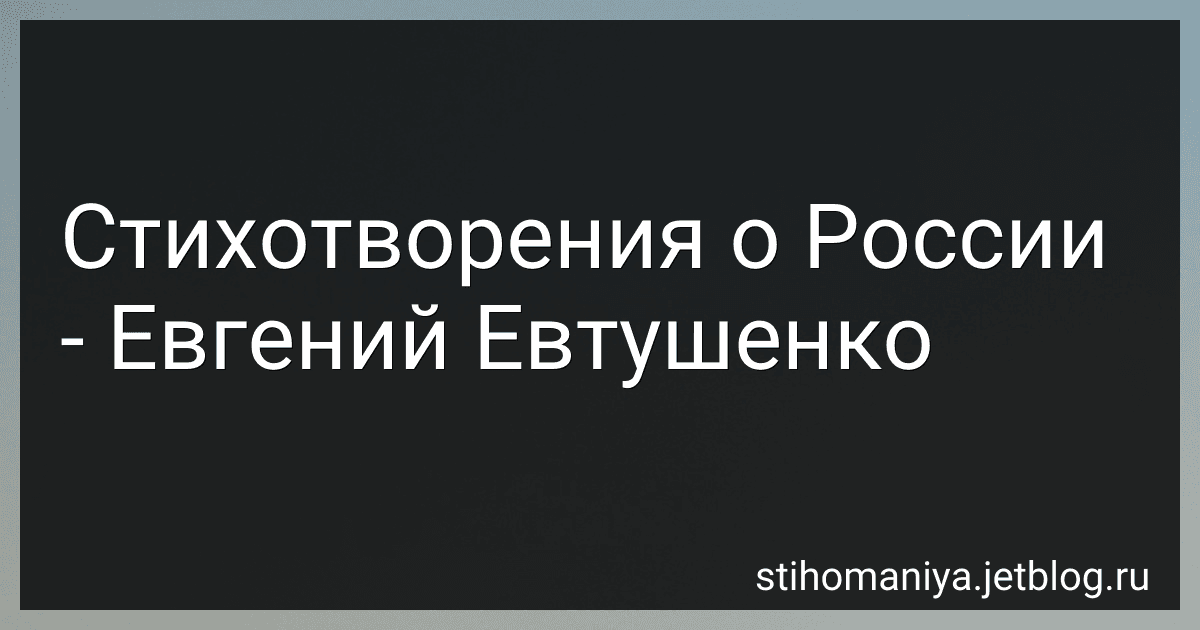Лучшие стихи про Россию Евгения Евтушенко:
Идут белые снеги
Идут белые снеги, как по нитке скользя... Жить и жить бы на свете, но, наверно, нельзя. Чьи-то души бесследно, растворяясь вдали, словно белые снеги, идут в небо с земли. Идут белые снеги... И я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду. я не верую в чудо, я не снег, не звезда, и я больше не буду никогда, никогда. И я думаю, грешный, ну, а кем же я был, что я в жизни поспешной больше жизни любил? А любил я Россию всею кровью, хребтом - ее реки в разливе и когда подо льдом, дух ее пятистенок, дух ее сосняков, ее Пушкина, Стеньку и ее стариков. Если было несладко, я не шибко тужил. Пусть я прожил нескладно, для России я жил. И надеждою маюсь, (полный тайных тревог) что хоть малую малость я России помог. Пусть она позабудет, про меня без труда, только пусть она будет, навсегда, навсегда. Идут белые снеги, как во все времена, как при Пушкине, Стеньке и как после меня, Идут снеги большие, аж до боли светлы, и мои, и чужие заметая следы. Быть бессмертным не в силе, но надежда моя: если будет Россия, значит, буду и я. 
Бабий яр
Над Бабьим Яром памятников нет. Крутой обрыв, как грубое надгробье. Мне страшно. Мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу. Мне кажется сейчас - я иудей. Вот я бреду по древнему Египту. А вот я, на кресте распятый, гибну, и до сих пор на мне - следы гвоздей. Мне кажется, что Дрейфус - это я. Мещанство - мой доносчик и судья. Я за решеткой. Я попал в кольцо. Затравленный, оплеванный, оболганный. И дамочки с брюссельскими оборками, визжа, зонтами тычут мне в лицо. Мне кажется - я мальчик в Белостоке. Кровь льется, растекаясь по полам. Бесчинствуют вожди трактирной стойки и пахнут водкой с луком пополам. Я, сапогом отброшенный, бессилен. Напрасно я погромщиков молю. Под гогот: "Бей жидов, спасай Россию!"- насилует лабазник мать мою. О, русский мой народ! - Я знаю - ты По сущности интернационален. Но часто те, чьи руки нечисты, твоим чистейшим именем бряцали. Я знаю доброту твоей земли. Как подло, что, и жилочкой не дрогнув, антисемиты пышно нарекли себя "Союзом русского народа"! Мне кажется - я - это Анна Франк, прозрачная, как веточка в апреле. И я люблю. И мне не надо фраз. Мне надо, чтоб друг в друга мы смотрели. Как мало можно видеть, обонять! Нельзя нам листьев и нельзя нам неба. Но можно очень много - это нежно друг друга в темной комнате обнять. Сюда идут? Не бойся - это гулы самой весны - она сюда идет. Иди ко мне. Дай мне скорее губы. Ломают дверь? Нет - это ледоход... Над Бабьим Яром шелест диких трав. Деревья смотрят грозно, по-судейски. Все молча здесь кричит, и, шапку сняв, я чувствую, как медленно седею. И сам я, как сплошной беззвучный крик, над тысячами тысяч погребенных. Я - каждый здесь расстрелянный старик. Я - каждый здесь расстрелянный ребенок. Ничто во мне про это не забудет! "Интернационал" пусть прогремит, когда навеки похоронен будет последний на земле антисемит. Еврейской крови нет в крови моей. Но ненавистен злобой заскорузлой я всем антисемитам, как еврей, и потому - я настоящий русский! 
Молитва перед поэмой
Поэт в России - больше, чем поэт. В ней суждено поэтами рождаться лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, кому уюта нет, покоя нет. Поэт в ней - образ века своего и будущего призрачный прообраз. Поэт подводит, не впадая в робость, итог всему, что было до него. Сумею ли? Культуры не хватает... Нахватанность пророчеств не сулит... Но дух России надо мной витает и дерзновенно пробовать велит. И, на колени тихо становясь, готовый и для смерти, и победы, прошу смиренно помощи у вас, великие российские поэты... Дай, Пушкин, мне свою певучесть, свою раскованную речь, свою пленительную участь - как бы шаля, глаголом жечь. Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд, своей презрительности яд и келью замкнутой души, где дышит, скрытая в тиши, недоброты твоей сестра - лампада тайного добра. Дай, Некрасов, уняв мою резвость, боль иссеченной музы твоей - у парадных подъездов и рельсов и в просторах лесов и полей. Дай твоей неизящности силу. Дай мне подвиг мучительный твой, чтоб идти, волоча всю Россию, как бурлаки идут бечевой. О, дай мне, Блок, туманность вещую и два кренящихся крыла, чтобы, тая загадку вечную, сквозь тело музыка текла. Дай, Пастернак, смещенье дней, смущенье веток, сращенье запахов, теней с мученьем века, чтоб слово, садом бормоча, цвело и зрело, чтобы вовек твоя свеча во мне горела. Есенин, дай на счастье нежность мне к березкам и лугам, к зверью и людям и ко всему другому на земле, что мы с тобой так беззащитно любим. Дай, Маяковский, мне глыбастость, буйство, бас, непримиримость грозную к подонкам, чтоб смог и я, сквозь время прорубясь, сказать о нем товарищам-потомкам... 
Потеря
Потеряла Россия в России Россию. Она ищет себя, как иголку в стогу, как слепая старуха, бессмысленно руки раскинув, с причитаньями ищет буренку свою на лугу. Мы сжигали иконы свои. Мы не верили собственным книгам. Мы умели сражаться лишь с пришлой бедой. Неужели не выжили мы лишь под собственным игом, сами став для себя хуже, чем чужеземной ордой? Неужели нам жить суждено то в маниловском, молью побитом халате, то в тулупчике заячьем драном с плеча Пугача? Неужели припадочность - это и есть наш характер, то припадки гордыни, то самооплева - и все сгоряча? Медный бунт, соляной и картофельный - это как сон безопасный. Бунт сплошной - вот что Кремль сотрясает сегодня, как будто прибой. Неужели единственный русский наш выбор злосчастный - это или опричнина или разбой? Самозванство сплошное. Сплошные вокруг атаманы. Мы запутались, чьи имена и знамена несем, и такие туманы в башках на Руси, растуманы, что неправы все сразу, и все виноваты во всем. Мы в туманах таких по колено в крови набродились. Хватит, Боже, наказывать нас. Ты нас лучше прости, пожалей. Неужели мы вымерли? Или еще не родились? Мы рождаемся снова, а снова рождаться - еще тяжелей. 
Ярмарка в Симбирске
Ярмарка! В Симбирске ярмарка. Почище Гамбурга! Держи карман! Шарманки шамкают, и шали шаркают, и глотки гаркают: «К нам! К нам!» В руках приказчиков под сказки-присказки воздушны соболи, парча тяжка. А глаз у пристава косится пристально, и на «селедочке» перчаточка. Но та перчаточка в момент с улыбочкой взлетает рыбочкой под козырек, когда в пролеточке с какой-то цыпочкой, икая, катит икорный бог. И богу нравится, как расступаются платки, треухи и картузы, и, намалеваны икрою паюсной, под носом дамочки блестят усы. А зазывалы рокочут басом, торгуют юфтью, шевром, атласом, пречистым Спасом, прокисшим квасом, протухшим мясом и Салиасом. И, продав свою картошку да хвативши первача, баба ходит под гармошку, еле ноги волоча, и поет она, предерзостная, все захмелевая, шаль за кончики придерживая, будто молодая: «Я была у Оки, ела я-бо-ло-ки. С виду золоченые - в слезыньках моченные. Я почапала на Каму, я в котле сварила кашу. Каша с Камою горька - Кама слезная река. Я поехала на Яик, села с миленьким на ялик. По верхам и по низам - всё мы плыли по слезам. Я пошла на тихий Дон, я купила себе дом. Чем для бабы не уют? А сквозь крышу слезы льют». Баба крутит головой. Все в глазах качается. Хочет быть молодой, а не получается. И гармошка то зальется, то вопьется, как репей... Пей, Россия, ежли пьется,- только душу не пропей! Ярмарка! В Симбирске ярмарка. Гуляй, кому гуляется! А баба пьяная в грязи валяется. В тумане плавая, царь похваляется... А баба пьяная в грязи валяется. Корпя над планами, министры маются... А баба пьяная в грязи валяется. Кому-то памятник подготовляется... А баба пьяная в грязи валяется. И мещаночки, ресницы приспустив, мимо, мимо: «Просто ужас! Просто стыд!» И лабазник - стороною мимо, а из бороды: «Вот лежит...А кто виною? Всё студенты да жиды...» И философ-горемыка ниже шляпу на лоб и, страдая гордо,- мимо: «Грязь - твоя судьба, народ». Значит, жизнь такая подлая - лежи и в грязь встывай?! Но кто-то бабу под локоть и тихо ей: «Вставай!..» Ярмарка! В Симбирске ярмарка. Качели в сини, и визг, и свист. И, как гусыни, купчихи яростно: «Мальчишка с бабою... Гимназист». Он ее бережно ведет за локоть. Он и не думает, что на виду. «Храни Христос тебя, яснолобый. А я уж как-нибудь сама дойду». И он уходит. Идет вдоль барок над вешней Волгой, и, вслед грустя, его тихонечко крестит баба, как бы крестила свое дитя. Он долго бродит. Вокруг все пасмурней. Охранка - белкою в колесе. Но как ей вынюхать, кто опаснейший, когда опасны в России все! Охранка, бедная, послушай, милая,- всегда опасней, пожалуй, тот, кто остановится, кто просто мимо чужой растоптанности не пройдет. А Волга мечется, хрипя, постанывая. Березки светятся над ней во мгле, как свечки робкие, землей поставленные за настрадавшихся на земле. Ярмарка! В России ярмарка. Торгуют совестью, стыдом, людьми, суют стекляшки, как будто яхонты, и зазывают на все лады. Тебя, Россия, вконец растрачивали и околпачивали в кабаках, но те, кто врали и одурачивали, еще останутся в дураках! Тебя, Россия, вконец опутывали, но не для рабства ты родилась - Россию Разина, Россию Пушкина, Россию Герцена не втопчут в грязь! Нет, ты, Россия, не баба пьяная! Тебе великая дана судьба, и если даже ты стонешь, падая, то поднимаешь сама себя! Ярмарка! В России ярмарка. В России рай, а слез - по край. Но будет мальчик - он снова явится и скажет праведное: «Вставай!» 
Мы русские. Мы дети Волги.
Мы русские. Мы дети Волги. Для нас значения полны ее медлительные волны, тяжелые, как валуны. Любовь России к ней нетленна. К ней тянутся душою всей Кубань и Днепр, Нева и Лена, и Ангара, и Енисей. Люблю ее всю в пятнах света, всю в окаймленье ивняка... Но Волга Для России - это гораздо больше, чем река. А что она - рассказ не краток. Как бы связуя времена, она - и Разин, и Некрасов, и Ленин - это все она. Я верен Волге и России - надежде страждущей земли. Меня в большой семье растили, меня кормили, как могли. В час невеселый и веселый пусть так живу я и пою, как будто на горе высокой я перед Волгою стою. Я буду драться, ошибаться, не зная жалкого стыда. Я буду больно ушибаться, но не расплачусь никогда. И жить мне молодо и звонко, и вечно мне шуметь и цвесть, покуда есть на свете Волга, покуда ты, Россия, есть. 
Памяти Есенина
Поэты русские, друг друга мы браним - Парнас российский дрязгами засеян. но все мы чем-то связаны одним: любой из нас хоть чуточку Есенин. И я - Есенин, но совсем иной. В колхозе от рожденья конь мой розовый. Я, как Россия, более суров, и, как Россия, менее березовый. Есенин, милый, изменилась Русь! но сетовать, по-моему, напрасно, и говорить, что к лучшему,- боюсь, ну а сказать, что к худшему,- опасно... Какие стройки, спутники в стране! Но потеряли мы в пути неровном и двадцать миллионов на войне, и миллионы - на войне с народом. Забыть об этом, память отрубив? Но где топор, что память враз отрубит? Никто, как русскиe, так не спасал других, никто, как русскиe, так сам себя не губит. Но наш корабль плывет. Когда мелка вода, мы посуху вперед Россию тащим. Что сволочей хватает, не беда. Нет гениев - вот это очень тяжко. И жалко то, что нет еще тебя И твоего соперника - горлана. Я вам двоим, конечно, не судья, но все-таки ушли вы слишком рано. Когда румяный комсомольский вождь На нас, поэтов, кулаком грохочет и хочет наши души мять, как воск, и вылепить свое подобье хочет, его слова, Есенин, не страшны, но тяжко быть от этого веселым, и мне не хочется, поверь, задрав штаны, бежать вослед за этим комсомолом. Порою горько мне, и больно это все, и силы нет сопротивляться вздору, и втягивает смерть под колесо, Как шарф втянул когда-то Айседору. Но - надо жить. Ни водка, ни петля, ни женщины - все это не спасенье. Спасенье ты, российская земля, спасенье - твоя искренность, Есенин. И русская поэзия идет вперед сквозь подозренья и нападки и хваткою есенинской кладет Европу, как Поддубный, на лопатки. 
Когда мы в Россию вернемся?
Письмо в Париж Г. Адамович Нас не спасает крест одиночеств. Дух несвободы непобедим. Георгий Викторович Адамович, а вы свободны, когда один? Мы, двое русских, о чем попало болтали с вами в кафе «Куполь», но в петербуржце вдруг проступала боль крепостная, такая боль... И, может, в этом свобода наша, что мы в неволе, как ни грусти, и нас не минет любая чаша, пусть чаша с ядом в руке Руси. Георгий Викторович Адамович, мы уродились в такой стране, где тягу к бегству не остановишь, но приползаем - хотя б во сне. С ней не расстаться, не развязаться. Будь она проклята, по ней тоска вцепилась, будто репей рязанский, в сукно парижского пиджака. Нас раскидало, как в море льдины, расколошматило, но не разбив. Культура русская всегда едина и лишь испытывается на разрыв. Хоть скройся в Мекку, хоть прыгни в Лету, в кишках - Россия. Не выдрать! Шиш! Невозвращенства в Россию нету. Из сердца собственного не сбежишь.  С этими стихами читают: Евтушенко о женщине Дай Бог Евтушенко Евтушенко стихи о войне
С этими стихами читают: Евтушенко о женщине Дай Бог Евтушенко Евтушенко стихи о войне